26.08.2020
Москва
Служба информации Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных Братств
СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ХОРУГВЕНОСЦЕВ,
СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Четыре сюжета о мировой литературе

I. Борьба миров
Помнится, читал я роман Умберто Эко «Пражское кладбище»… Умберто Эко справляет там чёрные мессы, его герой аферист Симонино убивает главного мага, изображавшего Люцифера. То есть, кто здесь настоящий сатанист? – спросите вы. Да, оба! – отвечу я. Один исполняет роль Дьявола, а другой этого исполняющего убивает. А заодно и главную жрицу, исполнявшую «алтарь» чёрной мессы… Причём, описывает всё это Умберто Эко явно со сладострастием и наслаждением. Да, это не Гоголь с его «Вием», и не Эдгар По с его «Тоби Даммитом». Там тоже смерть и трагедия, но только настоящие, а у Эко насмешливые, издевательские и извращённо мазохистские… Но главное тут даже не это, а имя, которое автор даёт этому извращённому цинику: Симонини. Дело в том, что так звали христианского мальчика в итальянском городе Тренте, которого ритуально умучали евреи накануне иудейского Песаха в 1475 году. Об этом подробно пишет профессор еврейского религиозного университета «Бар Илан» Ариэль Тоафф.

Обычай употребления евреями христианской крови в праздник Пурим и в праздник Пасхи

Мучения Св. Симона - барельеф на площади Сальвадора в Тренто. Подпись на латыни гласит: "В главной башне этого здания, где раньше располагалась синагога, а теперь находится храм, благословенный мученик Симон Трентский, на 29 месяце жизни, был мучительно убит евреями глубокой ночью 10 апреля 1475.
Кровавая Пасха д-ра Ариэля Тоаффа (Жертвоприношения у Иудеев?)
Ариэль Тоафф родился в семье главного раввина Рима.Профессор еврейского религиозного университета «Бар-Илан», что неподалёку от Тель-Авива, он снискал себе известность, благодаря фундаментальному исследованию средневековой истории евреев. Трёхтомная работа Тоаффа «Любовь, труд и смерть» (подзаговолок: «Жизнь евреев в средневековой Умбрии») представляет собой настоящую энциклопедию по этой довольно узкой теме.
Пе?сах (ивр. ??????, букв. «миновал, обошёл», в ашкеназскомпроизношении — Пе?йсах / Пе?йсох / Па?йсох; арам.????????, Пи?сха; по-гречески и по-русски — Пасха) — центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта. Начинается на 15-й день весеннего месяца нисан и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 — вне Израиля.
(д-р Ариэль Тоафф) обратился к делу св. Симона Трентского. Этот двухлетний мальчик из итальянского городка Тренто был похищен из дому несколькими евреями-ашкеназами накануне иудейской пасхи 1475 г. Ночью похитители убили ребенка. Они пустили ему кровь, пронзили тело гвоздями и распяли его головой вниз, восклицая: «Да сгинут все христиане на суше и на море!». Так они отметили свою пасху – архаический обряд, напоминающий о пролитой крови и умерщвленных младенцах, самым прямым образом, пренебрегая обычной метафорической заменой крови вином.
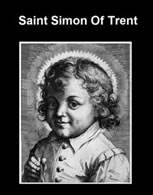


Бывший Святой Simon Unverdorben, Simonino di Trento
Более ста чудес были непосредственно отнесены к Св. Симону с течение года с момента его смерти, и его культ распространился по Италии, Австрии и Германии. Однако, присутствовал изначальный скептицизм, и Папа Sixtus IV послал Епископа Ventimiglia, учёного-доминиканца, для расследования. Почитание было восстановлено в 1588 францисканцем Папой Sixtus V. Святой в конце концов был признан мучеником и покровителем жертв киднеппинга и пыток.
В 1965 Церковь пересмотрела канонизацию, и Св. Симон был исключён из сонма Святых.
Убийц схватили, и они во всем сознались. Епископ Тренто признал их виновными. Однако иудейская община подала протест Папе Римскому, и он отправил епископа Вентимиглии для проведения следствия. Евреи предложили свою версию: «Симона убили христиане с провокационной целью дискредитации иудеев», - так утверждает довоенная Еврейская энциклопедия.
«В воскресенье, на Пасху 1475 г., в итальянском город Тренто в подвале дома, принадлежавшего евреям, было найдено мертвое тело двухлетнего христианского младенца по имени Симон».

Тело замученного Симона Трентского. Погребение, Нюрнберг, ок. 1479
В Еврейской энциклопедии написано, что ребенок был найден поблизости от дома, где жили евреи.
Вот что пишет об этом бывший раввин, перешедший в Православие и ставший монахом Неофитом:
Каким образом евреи сохраняют тайны

Помощью Господа нашего Иисуса Христа я только что разоблачил варварский обычай крови, сохраняемый и употребляемый у евреев. Эта тайна не описана ни в одной книге. Здесь еще видно, что лицемерие - причина их несчастия, согласно угрозам Моисея в XXVIII главе Второзакония. Эти проклятия служат именно доказательством их сатанинской ненависти к христианам. Она доводит их до убийства этих последних и употребления в пищу их крови.
Это не все. Я хочу еще раскрыть об еврейском племени нечто другое, еще не описанное ни в одной книге, по крайней мере в ясном и понятном смысле. Одни только какамы, раввины и отцы семейств знают ее и передают ее словесно своим сыновьям, предварительно запугивая их ужасными проклятиями, если они когда-либо раскроют тайну. Они открывают своим сыновьям эту тайну крови, внушая им свято хранить ее, повелевая всегда таить ее в сердце и никогда не открывать ее никому, разве только тому из сыновей, которого они признают способным хранить тайну, под условием полнейшего молчания. Они запрещают им сообщать ее кому-либо из христиан, даже если бы им пришлось испытывать самые жестокие страдания, предпочитая пожертвовать жизнью и пролить за это кровь, чем раскрыть тайну.
Что касается меня, то я прежде всего верю в Бога и не боюсь проклятий, ни даже отцовского, ни раввинов, ни какамов, ни всего еврейского племени; я все разглашу во славу Господа Бога Иисуса Христа и Святой Церкви. А вот каким образом эта тайна крови мне открылась.
Когда я достиг тринадцатилетнего возраста, при достижении какового евреи имеют обыкновение возлагать на голову своих сыновей венец возмужалости (трифилон), мой отец отвел меня в сторону и остался со мною наедине; он снова начал меня наставлять и советовал мне как можно больше ненавидеть христиан, так как это повелено Богом, до того, чтобы их убивать, и собирать кровь их для обычаев, о которых я говорил. И он мне сказал:
- Мой сын, - (в это время он меня поцеловал). - Мой сын, теперь я тебя делаю самым доверенным моим наперсником и другим самим собою.
Он возложил на мою голову венец и объяснил мне тайну крови, говоря, что это наисвященнейшее откровение и заповедь Божия евреям. Он прибавил при этом, что я, таким образом, посвящен в самую сокровенную тайну евреев. Затем он преподал мне следующие советы:
- Мой дорогой сын, заклинаю тебя небом и землею всегда хранить эту тайну в сердце и никогда ее не сообщать ни твоим братьям, ни твоей матери, ни сестрам, ни даже твоей жене, никому на свете, и, в особенности, никакой женщине.
- Если бы даже ты имел одиннадцать сыновей, ты не должен открывать им всем этой тайны, а только одному, то есть тому, которого ты признаешь самым мудрым из всех и самым верным хранителем тайны, подобно тому, как я поступаю теперь с тобою. И еще ты, как следует, следи за тем, чтобы этот сын был верным и усердным ревнителем нашей веры.
- Я тебе снова повторяю, остерегайся открывать эту тайну какой бы то ни было женщине, даже твоим дочерям, жене, ни даже твоей матери, а только тому из сыновей, которого ты признаешь достойным сего.
В заключение он мне сказал:
- Мой дорогой сын, пусть земля откажется от погребения твоего тела и от принятия в свои недра останков твоих после смерти, если когда-либо, при каких бы то ни было обстоятельствах тебе пришлось бы открыть эту тайну кому-нибудь другому, а не тому, кому я тебе указал, даже если бы ты из-за личного интереса или по какой другой причине сделался христианином. Берегись предать твоего отца, разоблачив эту божественную тайну, которую я тебе сегодня открываю. Мое проклятие поразит тебя тотчас же; оно будет следовать за тобою при жизни, при смерти и вечно.
Но я нашел другого Отца, который есть Господь Бог наш Иисус Христос, и другую мать, которая есть Церковь христианская; я хочу проповедывать истину и, как говорит мудрый Сирах, я буду бороться до самой смерти за правду.
Я уже находился и нахожусь в настоящее время поистине в большой опасности жизни за это оглашение. Но я верю в слова апостола Павла22: “Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или нагота, или опасность, или меч? - Я уверен, что ни жизнь, и ни смерть...”. Вот почему мое упование - Предвечный Отец, мое убежище - Его Единый Сын и моя сила - Святой Дух. Слава Святой Троице.
http://antisionizm.info/Kakim-obrazom-evrei-sohranyayut-tayni-183.html

Тут и судья-евреи, и пресса-евреи, и канибалы-евреи, всё вокруг схвачено. У вас такое создаётся впечатление, что единичные жертвы для еврейских сектантов для их ритуальных жертвоприношений, попадают случайно и редко. - Нет ничего более далёкого от действительности. Избранный народ на этой Земле 6000 лет.
Весь их культ вертится только вокруг жертвоприношений, причем именно не поклонений всяким там дубам и святым рощам, а именно вокруг кровавых жертвоприношений - КОРБАН.
Только у евреев кровавое жертвоприношение - КОР-БАН
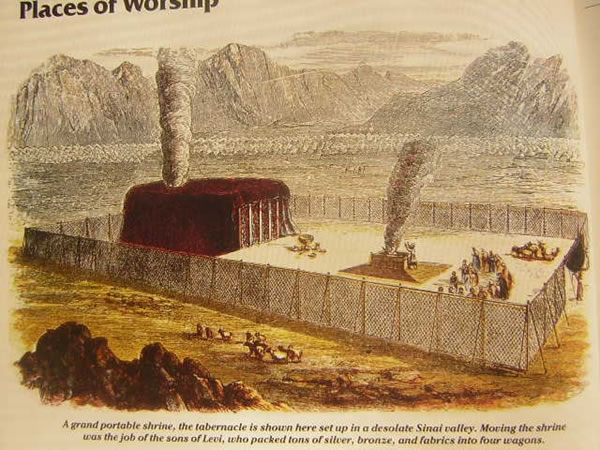
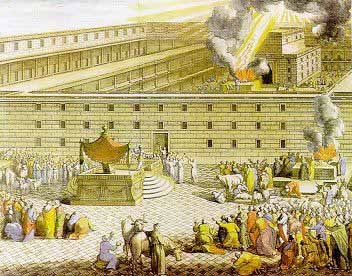

В любое время дня и ночи, если в любой точке земного шара им нужен зарезать гойского детёныша - "цыплёнка Табаха",
он будет доставлен к алтарю в течение суток. Работает и "стол предварительных заказов".
Избранный народ очень пунктуален и научен; он ничего просто так на самотёк не оставляет.

Это само Зазеркалье, сам Алиенал! Он на атасе стоит чётко, потому что жертвоприношения гоев - это основная методология, основной как бы цемент, на котором весь этот Евреонал держится. Если часть крови отстёгивается космическим алиенам, потому что золото и кровь - кровь и золото - это как бы единый комплекс,
след которого теряется в небе и космосе.
Читатель абсолютно правильно пишет:
"Полностью согласен с Вами насчет мистицизма. Предлагаю кафедре разоблачить мистицизм на конкретных примерах. Например: ритуальные убийства, поедание евреями мацы с кровью гойских младенцев под вывеской еврейской магии скрывают вполне прагматичную цель – сплотить членов диаспоры самым простым, надежным и неоднократно проверенным способом – повязать кровью.
Ведь даже самый прогойски настроенный еврей, отведав мацы , замешанной на крови гойских младенцев, осознает, что в случае раскрытия пощады не будет, такое не прощают. Поэтому все евреи лично способствуют сокрытию преступлений, творимых еврейской верхушкой»…
Но всё это я узнал много, много позже, лет эдак через 15-ть – 20-ть. А пока, как я уже писал, я сидел в комнате Ночного Сторожа, писал стихи и переводил роман Драго Янчара «Северное сияние». Что же касается «Пражского кладбища» Умберто Эко, то, по правде говоря, я впервые прочитал его где-то в 2000-каком-то году. А тогда в году 1989-м я и не знал ни о младенце-мученике Симонини из Трента, ни об аферисте по фамилии Симонино из романа Умберто Эко. Да и читал я тогда совсем иные книги. Вот, например, главы одно из них:
Венедикт Ерофеев
Москва—Петушки
Поэма
«Москва. На пути к Курскому вокзалу
Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало – и ни разу не видел Кремля.
Вот и вчера опять не увидел, – а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так чтоб очень пьян был: я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декокта люди ничего лучшего еще не придумали.
Так. Стакан зубровки. А потом – на Каляевской – другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-дессерт.
Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а дальше – что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню – это я отчетливо помню – на улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.
А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр, а я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.
Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. (Это чепуха: не вышел вчера – выйду сегодня.) И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-то неведомом подъезде (оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик – и так и уснул). Нет, не поэтому мне обидно. Обидно вот почему: я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на шесть рублей – а что и где я пил? и в какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает, и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот?
Что это за подъезд, я до сих пор не имею понятия; но так и надо. Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.
Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают – все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него, – все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух.
«Ничего, ничего, – сказал я сам себе, – ничего. Вон – аптека, видишь? А вон – этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо – иди направо».
Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя, да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце! о, иллюзорность бедствия! о, непоправимость! Чего в ней больше, в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени, чего в ней больше: паралича или тошноты? истощения нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше: столбняка или лихорадки?
«Ничего, ничего, – сказал я сам себе, – закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко, редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево – попадешь на Курский вокзал; если прямо – все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть».
О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа – время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов! Иди, Веничка, иди…
…А я продолжаю стоять.
«Повторяю! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино».
Ну, вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набрасываетесь на меня с вопросами: «Ведь ты из магазина, Веничка?»
– Да, – говорю я вам, – из магазина. – А сам продолжаю идти в направлении перрона, склонив голову влево.
– Твой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в сердце поет свирель? Ведь правда?
– Ну, это как сказать! – говорю я, склонив голову вправо. – Чемоданчик – точно, очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано…
– Так что же, Веничка, что же ты все-таки купил? Нам страшно интересно…
– Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю: во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят две каждая, итого пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской, по рупь шестьдесят четыре, итого пять двадцать четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. Сейчас, вспомню. Да – розовое крепкое за рупь тридцать семь…
…И вот только у Карачарова мой Бог расслышал и внял. Все улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и уляжется, так это бесповоротно. Будьте уверены. Я уважаю природу, было бы некрасиво возвращать природе ее дары… Да.
Я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика посмотрела на меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами…
Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости… Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и все покупается:…глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные глаза… Девальвация, безработица, пауперизм… Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой – вот какие глаза в мире чистогана…
Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им все божья роса…
Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо только вот что: вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выделывал?.. Кувыркался из угла в угол, как великий трагик Федор Шаляпин, с рукою на горле, как будто меня что душило?
Ну да, впрочем, пусть. Если кто и видел – пусть. Может, я там что репетировал? Да… В самом деле. Может, я играл в бессмертную драму «Отелло, мавр венецианский»? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям; я себе нашептал про себя – о, такое нашептал! – и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, – я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу. Да мало ли что я там делал?
Вон – справа, у окошка – сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке. А другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И пожалуйста – никого не стыдятся, наливают и пьют. Закусывают и тут же опять наливают. Не выбегают в тамбур и не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: «А! Хорошо пошла, курва!» А умный-умный выпьет и говорит: «Транс-цен-ден-тально!» И таким праздничным голосом! Тупой-тупой закусывает и говорит: «Заку-уска у нас сегодня – блеск! Закуска типа „я вас умоляю!“». А умный-умный жует и говорит: «Да-а-а… Транс-цен-ден-тально!..»
Поразительно! Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли – мавра или не мавра? плохо обо мне подумали, хорошо ли? А эти – пьют горячо и открыто, как венцы творения, пьют с сознанием собственного превосходства над миром… «Закуска типа „я вас умоляю“!»… Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности!.. До работы пью – прячусь. Во время работы пью – прячусь… а эти!! «Транс-цен-ден-тально!»…
…Я взглянул вправо: там все до сих пор сидят эти двое, тупой-тупой и умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосел и спит. А умный в коверкотовом пальто сидит напротив тупого и будит его. И как-то по-живодерски будит: берет его за пуговицу и до отказа подтаскивает к себе, как бы натягивая тетиву, – а потом отпускает: и тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзаясь в спинку лавочки, как в сердце тупая стрела Амура…
«Транс-цен-ден-тально»… – подумал я. – И давно это он его так?.. Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит, – значит, оба, в принципе, могли бы украсть. Но ведь один-то спит, а другой в коверкотовом пальто, – значит, ни тот, ни другой украсть не могли…»
Тогда этот роман, то есть, извините, «поэму» читали все. И Демьян, и Наталья Масленикова и все остальные интеллигенты-алкоголики. И восхищались ей. Помню, как-то на набережной Москва-реки Демьян мне говорит:
- Неужели ты не читал «Москву – Петушки»? Не может же быть?! Это же точно про нас! А знаешь, как она начинается?
- Как?
- А вот как: «Вот все говорят, Красная площадь, Красная площадь, а я иду с похмелья, и смотрю в витрину, и вижу: мамочка родная, «Кубанская»! Кубанскую дают!» - восхищённо цитировал Демьян. Точнее не цитировал, а сам рождал свой, уже «фольклорный вариант»… Но, надо вам заметить, что тогда в 70-е – 80-е г.г. XX столетия так жили и писали не только Венечка Ерофеев, Демьян или я. Так жили и писали очень и очень многие талантливые русские люди. Вот Александр Башлачёв:
«Тепло, беспокойно и сыро,
Весна постучалась ко мне.
На улице тают пломбиры,
И шапки упали в цене.
Шатаюсь по улицам синим
И, пряча сырые носки,
Во всех незнакомых гостиных
Без спроса читаю стихи.
Я занят веселой игрою –
Я солнечных зайцев ловлю,
И рву васильки на обоях,
И их васильками кормлю.
Красивая женщина моет
Окно на втором этаже.
Я занят веселой игрою.
Мне нравится этот сюжет.
Киваю случайным прохожим,
По лужам иду напрямик.
А вечером спрячусь в прихожей,
Поплачусь в чужой воротник.
Вот одна из множества статей о Башлачёве из Интернета:
«В 1984ом году Башлачёв увольняется из редакции ненавистного "Коммуниста", работа в котором просто убивает его. Темы для статей - самые что ни на есть советские. Здесь и достижения ударников труда, и прочие заметки о работе партии и тех, "кому на Руси жить хорошо". Но душа Александра уже больна другой Россией, не краснознамённой, подневольной, "абсолютно-вахтёрской", но свободной и мыслящей самостоятельно. И во все время эта самостоятельность являлась главное целью поэтов и революционеров, обидно лишь то, что на смену им, вне зависимости от страны и идеи, постоянно приходят всё те же бюрократы, и лозунги "Пятилетку в три недели" уже превращаются в "Удвоим ВВП за два дня". Обидно лишь, что результат так и остаётся нулевым, и каждое занятое кресло чиновника это не надежда на спасение, но просто ещё одна благоустроенная жизнь у пульта с кнопками управления народом.
В том же году близкий друг Саши, Леонид Парфёнов, знакомит его с журналистом и музыкальным критиком Артемием Троицким, публикации которого в это время уже были запрещены в советских изданиях. На счету Троицкого к тому моменту было множество статей про группы такого масштаба, как "The Beatles" и "Deep Purple". Увидя у себя в дверях очередного поэта-композитора "а-ля непризнанный Высоцкий", он, конечно же, без особого восторга посмотрел на него, предложив сыграть что-нибудь "из своего". И в этот момент происходит что-то невероятное... Башлачёв берёт в руки гитару и резкими ударами уже задаёт ритм, задаёт темп биению сердец. Он отточенными, уверенными ударами пальцев о струны уже растирает себя в кровь, в стружку, выдавая уникальный по своей силе материал, который, казалось бы, невозможно услышать уже нигде, но как не поверить своим ушам, когда всё это происходит здесь и сейчас ? Когда голос, колокольчики повешенные на запястье и ритмичный бой уже опустошают, и выворачивают на изнанку, и очищают от всего того, что долго копилось внутри, и тщетно искало выход из лабиринтов души. А маленький человек с гитарой уже растворяется в пьянящем болью и скорбью воздухе, превращаясь во что-то удивительное, расцветая всеми цветами радуги и всеми узорами, какими зимой мороз разрисовывает окна. Именно так расправляет крылья новорожденная бабочка, именно так начинается путь длинною в четыре неполных года.
В отличии от своих "коллег по цеху" - Цоя или Агузаровой, он не стремился к славе, деньгам и публике. Александр Башлачёв играл для своих, и свобода от популярности, в его понимании, конечно, соответствовала внутренней свободе. В своё время он был дружен и с Андреем Вознесенским, и с Аллой Пугачёвой, которая во время очередной их встречи, нарисует на внутренней обложке его паспорта сердце и каплю крови. Но всё это не то, не то, не то... И как же нам сложно понять загадку души настоящего поэта, для которого творчество это не деньги или заработок, для которого боль - это фильтр, а страдания и самоистязания - необходимость, ведущая к очищению и переходу на новый уровень понимания мира.
Отпусти мне грехи - я не помню молитв, но если хочешь стихами грехи замолю!
Объясни, я люблю оттого что болит, или это болит оттого что люблю?...
… Утро наступило неожиданно быстро, и пока все спали, Башлачёв подошёл к окну. Он открыл ставни и холодный снежный ветер подул ему прямо в лицо. Александр берёт в руки трубку телефона и звонит своей жене - она уже ждёт от Саши второго сына, Егора. Поэт сегодня как никогда молчалив и за весь разговор произносит лишь несколько уже избитых временем фраз. Александр всё пристальнее смотрит в окно, за которым дует холодный, обжигающий ледяными снежинками ветер. Башлачёв что-то взвешивает и, кажется, о чём-то безумно сожалеет. Тот самый ветер, которым он всегда мечтал стать. Но теперь, конечно же, поздно. Теперь уже поздно всё, и жить навзрыд больше не получается... Высота такого окна не позволяет человеку встать на подоконник в полный рост, как вы видите, и приходится присесть, свесив ноги вниз. И вот тот единственный момент, когда ты ещё жив, но уже приходит осознание содеянного - когда голые стопы касаются холодных кирпичей фасада здания. Но пути назад уже нет и остаётся только раскинуть руки и немного оттолкнуться от подоконника...
Немой мёртвый февраль ещё долгое время будет заметать вьюгами северную столицу, провожая по дороге на погост одного из лучших своих поэтов. Поэта, которого в последствии будут сравнивать с Пушкиным и Высоцким, Человека Поющего, чьи песни позже будут использованы для одноимённой театральной постановки. Александр Башлачёв будет похоронен на Ковалёвском кладбище 23 февраля, в день защитника отечества, что, конечно же, очень символично. На крышку гроба, заботливые друзья положат гитару и похоронят её вместе с Башлачёвым. Так уходит Голос, так уходит Человек, так уходит Надежда На Лучшее. С тех пор дорога на Ковалёвское не будет зарастать уже никогда. Нельзя сказать, что к Башлачёву после смерти приходят в гости толпы друзей и поклонников. Скорее гости очень даже редки, да и, как кажется, не очень здесь уместны - Саша никогда не стремился к славе. Однако, она нашла его сама. Потому что пришло время поэзии, пришло время музыки сердца. И он с природой поменялся местами, теперь уже не на его запястье звенит колокольчик, а на берёзе, которая растёт рядом с последним пристанищем Александра. Не он поёт свои песни-притчи природе, но она гулким эхом бубенцов сожалеет об утрате. О потере, которую уже никогда ничем не восполнишь...
Пусть не ко двору эти ангелы чернорабочие.
Прорвется к перу то, что долго рубить и рубить топорам.
Поэты в миру после строк ставят знак кровоточия.
К ним Бог на порог. Мёртвые нимут свой срам.
Поэты идут до конца. И не смейте кричать им "Не надо!"
Ведь Бог... Он не врет, разбивая свои зеркала.
И вновь семь кругов беспокойного, звонкого лада
глядят Ему в рот, разбегаясь калибром ствола.
Шатаясь от слез и от счастья смеясь под сурдинку,
свой вечный допрос они снова выводят к кольцу.
В быту тяжелы. Но однако легки на поминках.
Вот тогда и поймем, что цветы им, конечно, к лицу.
Не верьте концу. Но не ждите иного расклада.
А что там было в пути? Эти женщины, метры, рубли...
Неважно, когда семь кругов беспокойного лада
позволят идти, наконец, не касаясь земли.»
Они нам говорят, что поэт, окончательно погрузившись в грибы, анашу и алкоголь, не выдержал и как-то ранним зимним утром выпрыгнул в окно… Но женщина ,которая нам об этом рассказывает сильно картавит, а за спинойц у неё на полке стоит девятисвечник. Да и Парфёнов, который познакомил его с Троицким, не так давно был замечен на очередной чёрной мессе – на юбилее главреда «Эха Москвы» Венедиктова, позирующим в костюме Аполлона. Вот фотографии с этой вечеринки:




Королева бала, слева от неё Фагот Коровьев и между ними Кот Бегемот…



Да, это два разных, два совершенно противоположных мира. Мир русской трагедии, и мир еврейского интернационального космополитического счастья. Интересно, но если на Великоне Балу у Сатаны, описанном Булгаковым, хотя бы мужчины были одеты во фраки и пластроны, то здесь на Балу у Венедиктова голые уже все. Прогресс…
Тут вот Башлачёв не выпрыгивал в окно, Башлачёва туда «выпрыгнули». Да и то не в окно, а с крыши… Ибо Башлачёв был одним из тех, которых за их стихи, песни, музыку – убивают. Вот, что много позже, ну, эдак через 20-ть, а то и 30-ть, лет я писал на эту тему: «Дух, за который убивают» (http://www.pycckie.org/novosti/2018/novosti-130618.shtml)...
Да, да, они, то есть умбертоэковские и венедиктовские бесы –
Они кругом. Я больше не могу.
Я резко оторву от глаз ладони,
И вижу там, на левом берегу,
Сквозь мглу несутся дней последних кони.
Летит Чубайс, за ним летит Гайдар,
Летит Гайдар вослед за Новодворской.
А по полям пожар, пожар, пожар…
А по полям всё громче топот конский.
А тут стоят на правом берегу
Прекрасные, убитые поэты,
Но и на нём убитых стерегут
Ножи и гвозди, швайки и стилеты.
Убит Шукшин, за ним убит Рубцов,
Убит Высоцкий, умер Балабанов,
И Цой убит, Тальков и Башлачёв,
Что их жалеть пропащих наркоманов.
Вот Венедиктов Лёша, это да!
Не алкоголик как известный Веня.
Во лбу шестиконечная звезда,
Пылая, говорит: великий гений!
Они друзья, коллеги, смехачи,
Вещатели, банкиры, режиссёры,
Разведчики, гэбисты, стукачи,
Сванидзе, Ахеджакова, Невзоров.
А эти все: Тарковский, Даль, Шукшин,
Или Рубцов, иль Веня Ерофеев,
Сниматели «Рублёвых» и «Калин»,
Не то, что гениальные евреи.
Идёт борьба, смертельная борьба,
Всех, кто откроет тайный код халдеев
Ждёт завтра Иоаннова судьба,
С чьей головой станцует Соломея…
Да, много их ушедших слишком рано. Помнится, сильный совсем молодой Маяковский писал:

Ночь
Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.
Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.
Толпа - пестрошерстая быстрая кошка -
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.
Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул, пугая
ударами в жесть, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.
И «расцветали крыло», правда, не надо лбом, а на груди… Выстрелили в упор. Есть версия, что это сделал лично его чекистский друг Янечка, то есть Яков Савлович Агранов (наст.имя – Янкель – Шевель Шмаев - Соренсон). И ведь так «расцветали» не одного Маяковского, но многих гениальных русских писателей, поэтов, музыкантов, актёров…
II.Договор
Хотя погибали не только русские, погибали и евреи. Помню, как Вильгельм Скайлиггер рассказывал мне о встрече с Галичем. Он специально поехал тогда в Париж, чтобы встретиться с ним:
- Странные вы люди – русские! – удивлённо и каким-то раздражением говорил он мне. – Я пришёл к нему в гости (к Галичу – Л.Д.С.-Н.) с магнитофоном и бутылкой «Мартэля», чтобы поговорить с ним о его критике советской жизни и советской власти. А он, выпив, вдруг погрустнел и стал говорить, как он тоскует по России!... И вместо критики и интервью для радио «Кёльн» стал изливать мне душу… Но тут-то я его поймал…
- Поймал?!
- Да, поймал. Поймал на вашей пресловутой тоске по Родине! Я вообще не понимаю этой вашей тоски. Где деньги – там и Родина. Точнее никакой Родины нет вообще…
- А что есть?
- Есть? Есть то, что хочеться есть! – закончил Вильгельм. – И как можно вкуснее и изысканнее…
- И пить! – вставил я.
- Вот, вот! И пить. Только можно пить «Мартэль» и «Баллантайнс», а можно «политуру» и «денатурат»…
- Откуда ты знаешь про денатурат? – вскинул я на него глаза.
- Знаю. Я читал «Москва – Петушки». Там ещё даётся рецепт «Ханаанского бальзама» или «Чернобурки»: денатурат – 100 гр., бархатное пиво – 200 гр., политура очищенная – 100 гр., а также коктейля «Слеза» с лаком для ногтей – приводится… Но Галич меня сильно удивил. Тоска по Родине?... Чуть не плачет, даже на самом деле заплакал в конце… Тут я ему говорю:
«- А может Вам, Александр Аркадьевич, вернуться?
- Вернуться? Да, я об этом думал. Но это невозможно…
- Почему это?
- Не примут. Я для них враг…
- Ну, не такой уж и враг. В смысле не для всех враг. Вы враг для Полянского, для патриотов, для русских фашистов, а для евреев вы – друг…
- Но в России правят не одни евреи…
- Пока, пока… Пока не одни. А скоро будут и одни. Что Вы так на меня смотрите? Не верите?
- Не верю.
- А Вы поверьте. Уж я то знаю… У меня и там есть друзья. И в первую, конечно, очередь среди евреев… И я могу сделать так… вообщем я могу их попросить…
- Как это попросить? Через них?
- Через «Джоинт», через «Бнайт Брит», через, как там говорят, «сионистов»…
- И что? Вы хотите сказать, что «Бнай Брит» поможет мне вернуться в Россию?
- Да. Очень даже может помочь.
- А я что, должен вступить в «Бнай Брит»?
- Нет, зачем же. Достаточно только поставить подпись… Подпись на Договоре…
- На Договоре с Дьяволом?
- Ну, зачем же Вы так? Зачем? Просто на «Договоре». Ведь работали же Вы «по Договору» в советских редакциях…».
Так рассказывал мне тогда, в году, кажется, 70-ть каком-то, корреспондент радио «Кёльн», славист и русист, немецкий еврей Вильгельм Хайлиггер… Давно всё это было. И, как я понимаю, Галич тогда подписал Договор… А вот недавно я в Сети наткнулся на такой вот «Разговор с чёртом». Привожу из него отрывки:

Разговор с чёртом
Юрий Буковский
…Сижу, задумавшись в тиши,
Как дальше буду жить
Над ухом голос:
- Подпиши, и нечего тужить.
Глядь, за плечом мужик стоит
В копытах и рогах
Небритый, галстук на боку,
Надетый впопыхах
Надменный профиль, жёлтый глаз,
Точёные рога
Такого “щёголя”, как он,
Не видел никогда
А чёрт, как дома у себя,
Копытом на ковёр,
Присел на краешек стола
И начал разговор.
-Ну что, возьмёте миллион,
здоровье на века,
а может выпивки вагон,
вот Вам моя рука.
Любой порок, любую блажь,
и кончен разговор…
-Взамен?
-Ты душу мне продашь..,
а вот и Договор.
-А подпись?
-Подпись? Только кровь,
чернила не годны...
А хочешь, сделаю тебя
правителем страны?!...
… Я ж предлагаю, дурачок,
что хошь, хоть вечный рай,
не упусти свой шанс дружок,
а душу мне продай.
Вот тут, пониже, распишись,
иль просто крест поставь.
И я подумал, чёрт возьми,
А может он и прав?...
…Так ты надумал? Поспеши,
живи лишь для себя,
листочек этот подпиши,
судьбу свою любя…
…-Послушай и доверься мне,
бессмертным станешь ты.
-Что бы к могильной тишине
всю жизнь носить цветы?
Хотя какая это жизнь,
ведь жизнь венчает смерть...
-Да ты лишь только намекни
тебя схороним в твердь.
Какой красивый каламбур
сложился у меня.
И вынул из кармана шнур,
Взглянув в глаза любя.
И засмеялся от души,
Убрав шнурок назад,
-Ну хочешь, будешь бизнесмен
иль премий лауреат.
И будет счастье ко всему
и слава, и почёт.
А хочешь, узником в тюрьму?
Там всё наоборот.
А за окном себе, представь,
жизнь весело течёт,
ты подпись здесь свою поставь...
…И впыхнет небосклон,
И ты совсем уже не ты,
А сам – Наполеон!...
Ха-ха-ха-ха…
- Так это ты тогда был у Галича? – спросил я у Вильгельма.
- А кто же?!! – радостно воскликнул он. – Ведь он и сам тогда запечатлел нашу встречу в своём стихотворении. Помнишь? Вот оно. Александр Галич:
«Еще раз о черте»
Я считал слонов и в нечет и в чет,
И все-таки я не уснул,
И тут явился ко мне мой черт,
И уселся верхом на стул.
И сказал мой черт: — Ну, как, старина,
Ну, как же мы порешим?
Подпишем союз, и айда в стремена,
И еще чуток погрешим!
И ты можешь лгать, и можешь блудить,
И друзей предавать гуртом!
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, потом!
Аллилуйя, аллилуйя,
Аллилуйя, — потом!
Но зато ты узнаешь, как сладок грех
Этой горькой порой седин.
И что счастье не в том, что один за всех,
А в том, что все — как один!
И ты поймешь, что нет над тобой суда,
Нет проклятия прошлых лет,
Когда вместе со всеми ты скажешь — да!
И вместе со всеми — нет!
И ты будешь волков на земле плодить,
И учить их вилять хвостом!
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, — потом!
Аллилуйя, аллилуйя,
Аллилуйя, — потом!
И что душа? — Прошлогодний снег!
А глядишь — пронесет и так!
В наш атомный век, в наш каменный век,
На совесть цена пятак!
И кому оно нужно, это добро,
Если всем дорога — в золу…
Так давай же, бери, старина, перо
И вот здесь распишись, в углу!
Тут черт потрогал мизинцем бровь…
И придвинул ко мне флакон…
И я спросил его: — Это кровь?
— Чернила, — ответил он…
Аллилуя, аллилуя
— Чернила, — ответил он.
1969 г.
- Да, я знаю это стихотворение…
- Конечно, конечно! Я тоже знаю, что ты знаешь…
- Так тосковал, говоришь, Галич?
- Очень тосковал.
- Но он же сам хотел уехать. Ведь он же в отличие от Бродского прямо написал:
Я выбираю свободу
Сердце мое заштопано,
В серой пыли виски,
Но я выбираю Свободу,
И — свистите по все свистки!
И лопается терпенье,
И тысячи три рубак
Вострят, словно финки, перья,
Спускают с цепи собак.
Брест и Унгены заперты,
Дозоры и там, и тут,
И все меня ждут на Западе,
Но только напрасно ждут!
Я выбираю Свободу —
Но не из боя, а в бой,
Я выбираю свободу
Быть просто самим собой.
И это моя Свобода,
Нужны ли слова ясней?!
И это моя забота —
Как мне поладить с ней!
Но слаще, чем ваши байки,
Мне гордость моей беды,
Свобода казенной пайки,
Свобода глотка воды.
Я выбираю Свободу,
Я пью с ней нынче на «ты».
Я выбираю свободу
Норильска и Воркуты,
Где вновь огородной тяпкой
Над всходами пляшет кнут,
Где пулею или тряпкой
Однажды мне рот заткнут,
Но славно звенит дорога
И каждый приют как храм.
А пуля весит немного —
Не больше, чем восемь грамм.
Я выбираю Свободу —
Пускай груба и ряба,
А вы — валяйте, по капле
Выдавливайте раба!
По капле и есть по капле _
Пользительно и хитро,
По капле — это на Капри,
А нам — подставляй ведро!
А нам — подставляй корыто,
И встанем по всей красе!
Не тайно, не шито-крыто,
А чтоб любовались все!
Я выбираю Свободу,
И знайте, не я один!
…И мне говорит «свобода»:
— Ну что ж, — говорит, — одевайтесь,
И пройдемте-ка, гражданин.
1970 г.
- Так он тут про Воркуту поёт ,а не про Париж…
- Ну, и что… Уехал-то он в Париж… Но там-то и затосковал по России. И мечтал вернуться. И написал об этом:
Когда я вернусь
Когда я вернусь — ты не смейся, — когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу,
По еле заметному следу к теплу и ночлегу,
И, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь,
Когда я вернусь, о, когда я вернусь…
Послушай, послушай — не смейся, — когда я вернусь,
И прямо с вокзал, разделавшись круто с таможней,
И прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный
Ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь,
Когда я вернусь, о, когда я вернусь…
Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно соперничать небо,
И ладана запах, как запах приютского хлеба,
Ударит меня и заплещется в сердце моем…
Когда я вернусь… О, когда я вернусь…
Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи
Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый,
И я упаду, побежденный своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои,
Когда я вернусь… А когда я вернусь?
- По моему это искренне написано, - сказал я, - А ведь он, как я понимаю, был христианином. Как же он…
- Как же он со мной Договор подписал? Хочешь ты спросить, - улыбнулся Скайлиггер. - Да, очень уж хотелось со мной в Москву, в Москву, как сёстрам Чехова! Ха-ха-ха!... Вот и подписал…
- Но его же убило электричеством от немецкого комбайна «Телефункен» или от «Грюндика», не помню точно?.
- Ну, да. «Телефункен» или «Грюндик» мало ли на свете известных фамилий…
- А правда, что его труп был чёрным, как головешка?
- Головешка. Да. Это правда. И голова была свёрнута на бок.. Помнишь кончину Фауста в «Народной книге Шписа»?
«…Последний день своей жизни, а было это несколько лет тому назад, этот
Иоганнес Фауст провел в одной деревушке княжества Вюртембергского,
погруженный в печальные думы. Хозяин спросил о причине такой печали, столь
противной его нравам и привычкам (нужно сказать, что Фауст этот был, помимо
всего прочего, негоднейшим вертопрахом и вел столь непристойный образ жизни,
что не раз его пытались убить за распутство). В ответ он сказал: "Не пугайся
нынче ночью". Ровно в полночь дом закачался. Заметив на следующее утро, что
Фауст не выходит из отведенной ему комнаты, и подождав до полудня, хозяин
собрал людей и отважился войти к гостю. Он нашел его лежащим на полу ничком
около постели; так умертвил его дьявол.
При жизни его сопровождал пес, под личиной которого скрывался дьявол
…Он дожил до
старости и, говорят, погиб ужасной смертью. Многие полагали, основываясь на
различных свидетельствах и рассказах, что нечистый, которого он всегда
называл куманьком, умертвил его. Книги, оставшиеся после него, перешли в
руки рыцарей фон Штауфен, во владениях которых он умер. Много людей
стремились приобрести их, а, по моему разумению, такого добра желали они
себе только на горе и несчастье…»

- Впрочем, есть и другие версии, - сказал Вильгельм.
- Так ты и мне что ли хочешь предложить Договор?! – вскинул глаза Алёша.
- А почему бы и нет? Договор очень много даёт. Да ещё с твоими-то способностями. Да и то: ты ведь всё твердишь, что «надо пойти до конца». Так вот и сделай последний шаг – пойди до конца и подпиши Договор. Вот его текст. И Вильгельм положил передо мной старый пергамент…
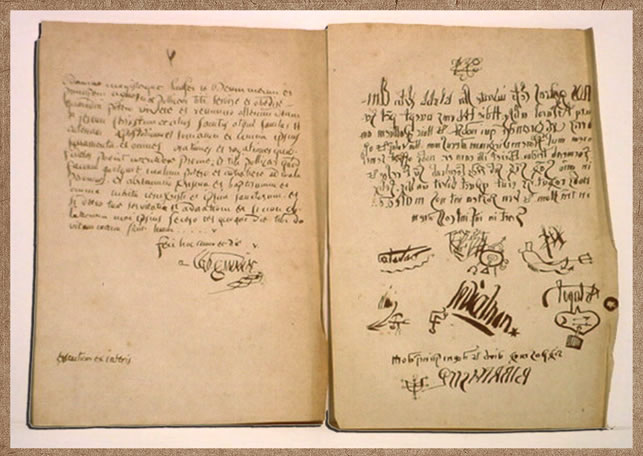
Дальше произошло нечто очень русское и совсем неожиданное для немецкого журналиста радио «Кёльн». Там в этой комнате было большое старинное, говорят, даже венецианское зеркало. А на столе, освещая пергамент, стоял тяжёлый медный подсвечник. И не успел Вильгельм подсунуть Алёше чернильницу (?), как тот схватил подсвечник и метнул его в зеркало. Раздался какой-то тяжёлый стон, потом хруст, и зеркало разлетелось на тысячи осколков. Потом наступила тьма и полнейшая тишина. И только откуда-то издали прозвучал трагический голос:
- Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один. И разбитое зеркало…
(продолжение следует...)
Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца
глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара
Леонид Донатович Симонович — Никшич




